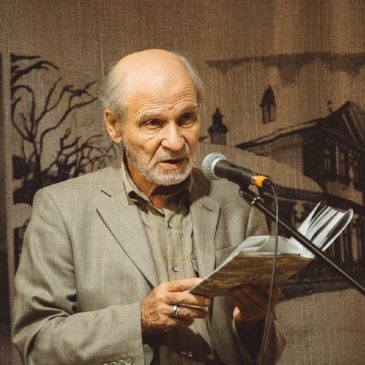Илья Фаликов
Родился во Владивостоке (1942), по образованию филолог (ДВГУ, 1965). Книги стихов: «Голубиная падь» (М.: Современник, 1980), «Ель» (М.: Советский писатель, 1982), «Клады» (М.: Молодая гвардия, 1983), «Месяц гнёзд» (М.: Современник, 1986), «Ласточкино лето» (М.: Советский писатель, 1990), «Книга лирики» (М.: Предлог, 2003), «Ком» (М.: Кругъ, 2007), «Сговор слов» (совм. с Натальей Аришиной; М.: Прогресс-Плеяда, 2008), «Сто стихотворений» (М.: Прогресс-Плеяда, 2012) и др.; книги эссеистики о поэзии «Прозапростихи» (М.: Новый ключ, 2000), «Фактор фонаря» (Владивосток: Рубеж, 2013); четыре романа в прозе, опубликованные в толстых московских журналах; книги в серии ЖЗЛ (см. о них ниже). Премии «Комсомольской правды» (1965), журнала «Вопросы литературы» – фонда «Литературная мысль» (2000), Фонда Генриха Белля (ФРГ, 2001), журнала «Арион» (2004), журнала «Эмигрантская лира» (поэзия метрополии, 2014). Почетный диплом премии «Московский счёт» в номинации «Лучшие книги года» за книгу «Сто стихотворений» (2013). Живёт в Москве.
Некоторое отступление (глава из книги о Борисе Слуцком)
От автора. 26 сентября сего года – дата 95-летия Александра Межирова (1923 – 2009). Хорошо известна дружба-соперничество Бориса Слуцкого с Давидом Самойловым. На поверхностный взгляд, Межиров стоял в стороне. Это не так.
Напоминаю: в будущем году Слуцкому исполнится 100 лет. У Межирова есть такие восемь строк:
Наша разница в возрасте невелика,
Полдесятка не будет годов.
Но во мне ты недаром узрел старика –
Я с тобой согласиться готов.
И жестокость наивной твоей правоты
Я тебе не поставлю в вину,
Потому что действительно старше, чем ты,
На Отечественную войну.
Думаю, адресат этой вещи – Владимир Соколов (1928 – 1997). Со Слуцким календарь работал по-иному. Именно война делала ровесниками Межирова со Слуцким.
Предлагаю читателю ознакомиться с фрагментами моей книги «Борис Слуцкий: Майор и муза», готовящейся к выходу в свет (серия ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия»).
См. на Textura предыдущую главу из книги.
НЕКОТОРОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Накануне очередного Нового года Слуцкий получил письмо-записку от Межирова.
28.XII.78.
Борис, накануне Нового года, мне хочется н а п и с а т ь Вам то, о чем много думал и немало говорил. Вы сейчас действительно единственный несомненно крупный поэт. Это не произвол моего вкуса, а убеждение всех, кто любит, чувствует и сознаёт поэзию. Вы-то, конечно, твердо знаете это сами сквозь любые Ваши сомнения, вечно владеющие художником.
Я постоянно буду пользоваться каждым случаем для выражения Вам моего почтения. Любящий Вас
А. Межиров.
Наступала новая ровная дата Слуцкого: шестьдесят лет. Межиров, долго не веривший в его болезнь («он нас разыгрывает»), поздравляет его:
7 мая 1979.
Дорогой Боря,
Всегда буду пользоваться поводом и случаем (сегодня они торжественные и интимные) – высказать Вам слова любви, глубокого уважения и восхищения. Вы и сами знаете, что во дни физиков и лириков единственный и несомненный поэт – Борис Слуцкий. Но каждый, кто любит, чувствует и сознает поэзию, убеждён в этом – в исключительной подлинности ритмического дыхания Ваших строк, в звуке (звук – сущность поэзии) величавом и пророческом, в Вашей способности возвращать мёртвым словам их первоначальный, живой, великий смысл.
Всегда горжусь, что я живу в одно с Вами Время… «все времена одинаково жестоки, надо жить и делать своё дело» – сказал древний мудрец. Так оно и есть.
Преданный Вам А. Межиров.
Во второй половине 1980-х годов участилось (раз в месяц – это часто) моё – телефонное по преимуществу – общение с Александром Межировым. В каждый наш разговор со стороны Межирова залетало имя Слуцкого. Я хорошо помнил, как ещё в 1967 году, при нашем первом свидании у него дома, Межиров обронил: после войны Слуцкий бездомно скитался по Москве на огромной дистанции от официального признания и тем более житейских благ. Не менее ясно я помнил и тот тусклый позднезимний день, когда Слуцкого хоронили из покойницкой кунцевской лечебницы.
Помнил Межирова в дорогой дублёнке и пышной ондатровой шапке, из-под которой куском серого льда мерцало несчастное лицо, когда-то голубоглазое. Помнил шоковый шорох, прошедший по скорбной толпе, когда сквозь неё в тесном помещении к изголовью гроба приближался Куняев и затем произнёс свою речь.
На даче у Межирова уже в 1986-м мы за бутылкой водки, принесённой хозяином дачи от нежадного соседа – Евтушенко, вели вечернюю беседу до поздней ночи с называнием имён, и чаще всего возникали имена Смелякова и Слуцкого. Особенно его – Слуцкого. Межиров, как всегда, читал наизусть, и его чтение потрясало.
Завяжи меня узелком на платке,
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и тень,
На худой конец и про черный день.
Я – ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я сгожусь судьбине, а не судьбе.
Когда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?
Было совершенно ясно, что Межиров говорит о первом, на его взгляд, поэте эпохи. Я понимал, что присутствую при подведении итогов. Кончилось многодесятилетнее ристалище. Венок победы доставался сильнейшему.
Межиров наверняка знал стихотворение «Обгон», ему посвящённое, поскольку оно было помещено в книге Слуцкого «Неоконченные споры» (1978).
А. Межирову
Обгоняйте, и да будете обгоняемы!
Скидай доспех!
Добывай успех!
Поэзия не только езда в незнаемое,
но также снег,
засыпающий бег.
Вот победитель идет вперёд,
вот побеждённый,
тихий, поникший,
словно погибший,
медленно
в раздевалку бредёт.
Сыплется снег,
но бег продолжается.
Сыплется снег,
метель разражается.
Сыплется, сыплется
снег, снег, снег,
но продолжается
бег, бег, бег.
Снег засыпает белыми тоннами
всех – победителей с побеждёнными,
скорость
с дорожкой беговой
и чемпиона с – вперёд! – головой!
Это свой вариант того, что Межиров назвал «полублоковская вьюга». Впрочем, Межиров когда-то сказал:
В Москве не будет больше снега,
Не будет снега никогда.
(«Прощание со снегом»)
Это похоже на прямой обмен стихами. На диалог. Каковой существовал и напрямую, и косвенно.
У Слуцкого, по-моему, нет партийных стихотворений, равновеликих межировскому «Коммунисты, вперёд!». Как так получилось? Загадка. Никакой не политрук – Межиров осуществил то, чего не добился коммунист по должности Слуцкий. Факт, говорящий в пользу моей гипотезы о маске, вросшей в лицо поэта Слуцкого.
В его пользу.
Не сумел, значит, «сказать неправду лучше, чем другие» (Межиров).
Где-то в конце семидесятых у Межирова появилось стихотворение «Через тридцать лет».
На протяженье многих лет и зим
Менялся интерес к стихам моим.
То возникал, то вовсе истощался —
Читатель уходил и возвращался.
Был многократно похоронен я,
Высвобождался из небытия,
Мотоциклист на цирковой арене,
У публики случайной на виду.
Когда же окончательно уйду,
Останется одно стихотворенье.
Он имеет в виду как раз «Коммунисты, вперед!».
У Слуцкого есть вещь, очень схожая с «Через тридцать лет» Межирова.
Про меня вспоминают и сразу же –
про лошадей,
рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось – ни строк, ни идей,
только лошади, тонущие в океане.
Я их выдумал летом, в большую жару:
масть, судьбу и безвинное горе.
Но они переплыли и выдумку, и игру
и приплыли в синее море.
Мне поэтому кажется иногда:
я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
лошадиная и людская.
И покуда плывут – вместе с ними
и я на плаву:
для забвения нету причины,
но мгновения лишнего не проживу,
когда канут в пучину.
Неважно, знал ли Слуцкий «Через тридцать лет». Межиров вряд ли читал «Про меня вспоминают…». Но ход мысли один. Печальное сознание прошлого успеха, заслонившего все, что сделано потом.
Благожелательный Сергей Гандлевский в 2011 году от имени жюри премии «Поэт» (как лауреат прошлого года) вручил диплом лауреата Виктору Сосноре, потомственному циркачу, и казалось, что откуда-то издалека, из глубины сцены незримо и глухо декламировал певец цирка Александр Межиров:
Что мне сказать о вас… О вас,
Два разных жизненных успеха?
Скажу, что первый –
лишь аванс
В счёт будущего… Так… Утеха…
Что первый, призрачный успех –
Дар молодости, дань обычья –
Успех восторженный у всех
Без исключенья и различья.
Второй успех приходит в счет
Всего, что сделано когда-то.
Зато уж если он придет,
То навсегда, и дело свято.
Обидно только, что второй
Успех
Не на рассвете раннем
Приходит к людям,
А порой
С непоправимым опозданьем.
(«Что мне сказать о вас… О вас…»)
Всегда ли значительность поэта равна любви к нему? Не бывает ли так, что любишь поэта не за его масштаб, но просто потому, что любишь? То есть он совпадает с тобой, трогает в тебе те струны, которых не касается десница великана?
Мне был ближе Межиров. Его мелодекламация. Его самоподавленная высокопарность. Его гримасы («Я перестал заикаться. / Гримасами не искажается рот»). Слуцкий напирает на тебя: учит, зовёт, ведёт, судит, воспитывает, руководит (так было не всегда: множество поздних стихотворений – совершенно другие). Межиров идёт рядом с тобой, разговаривая сам с собой.
Самое частотное слово у Межирова – «война». Постепенно с ним стало соперничать «вина» (своя). Рифма простейшая, но советско-социалистическому менталитету крайне чуждая.
Эта глухая, неизлечимая вина должна иметь свою причину. Проще всего – у поэта – её найти в измене призванию.
Однако у Межирова существует уточнение:
У других была судьба другая
И другие взгляды на войну,
Никого за это не ругая,
Лишь себя виню, виню, виню.
(«Я тебе рассказывать не буду…»)
Между прочим, это концовка стихотворения о… мытье посуды.
Я тебе рассказывать не буду,
Почему в иные времена
Мыл на кухне разную посуду…
Посуда и война? Что между ними общего? Ничего, кроме способа стихомышления. Оба понятия нагружены смыслами, не отвечающими самим себе. Если упростить, посуда – быт, война – доминанта бытия.
Страх перед мытьем посуды
Женские сердца гнетёт.
(«Споры, свары, пересуды…»)
В таком миропонимании от вины не уйти. В чём же она, эта вина? Во-первых:
Я виноват в слезах моей любимой,
Не искупить вину постом и схимой, –
Необходимо расплатиться за
Проплаканные досуха глаза.
(«Но, кроме неба, сам себе судья…»)
Во-вторых и в основном:
В чем-то, люди,
И я виноват.
А точнее сказать, я один виноват перед всеми.
В чем? Да в том, что, со всеми в единой системе,
Долго жил. Но ни с этими не был, ни с теми…
(«Окопный нефрит»)
Вот, пожалуй, развилка разницы между Межировым и Слуцким, у которого сказано:
Голосочком своим
словно дождичком медленно сея,
я подтягивал им,
и молчал и мычал я со всеми.
С удовольствием слушая,
как поют наши лучшие,
я мурлыкал со всеми.
Сам не знаю зачем,
почему, по причине каковской
вышел я из толпы
молчаливо мычавшей московской
и запел для чего
так, что в стеклах вокруг задрожало,
и зачем большинство
молчаливо меня поддержало.
(«Большинство – молчаливо…»)
Тоже гордится. Но – со всеми. Поддержан большинством.
У Межирова – речь о конченой, непобедимой гордыне. Так? Не совсем. Тут больше отщепенства, самоустранения, одиночества, которое гонит по свету. Но просматривается и люфт для самооправдания. Гордыня покрывается гордыней. Его «виноват» часто звучит как «невиноват». Это очень по-русски. Как у Есенина: «За всё, в чем был и не был виноват».
Межиров ценит Есенина за «строку из крови, а не из чернил». Определённый вид народничества присущ Межирову и в его стихах, обращенных к другому песенному собрату:
Всё тоскую по земле, по Бокову,
По его измученному лбу…
(«Всё тоскую по земле, по Бокову…»)
И в таких строках:
Никитина стихи прочтите мне,
Стихи Ивана Саввича о поле.
(«Просьба»)
Причастность к русскому народу невозможна без приятия его православности. Но:
Вы, хамы, обезглавившие Храмы
Своей же собственной страны,
Вступили в общество охраны
Великорусской старины.
(«Потомки праха, чада пыли…»)
Всё это проблематика 60–70-х годов прошлого века. Межиров – интеллигент той поры, пребывающий в «полупотьмах» полузнаний. Он знал небывало много, особенно стихов, читал жадно и ненасытимо, К. Леонтьев и В. Розанов – те писатели, раритеты которых он дарил людям, достойным того. Он слишком хорошо знал среду, в которой обретался. Ей-то и адресованы его самые яростные (само)инвективы.
Пародия на старые салоны
Пришла в почти что старые дома,
И густо поразвесили иконы
Почти что византийского письма…
(«Проза в стихах»)
Далее:
Я их вскормил. Они меня вскормили.
Но я виновен, ибо я первей…
Далее:
Радели о Христе. Однако вскоре
Перуна Иисусу предпочли
И, с четырьмя Евангельями в споре,
До Индии додумались почти.
А смысл единый этого раденья,
Сулящий только свару и возню,
В звериной жажде самоутвержденья,
В которой прежде всех себя виню.
Как видим, та проблематика отнюдь не устарела. Напротив, обрела новое дыхание. Межировская риторика продолжается, сегодня свежа, как вчера:
Как допустить, что плоть Его оттуда
И что Псалтири протянул Давид
Оттуда…
Оттуда – с «родины Христа». Межиров обличает не сплошь неославянофилов, в рядах его оппонентов фигурирует, скажем, и та особа, что
В другом салоне и в другой гостиной,
Вприпляс рыдала, – глаз не отвести,
Зовущая Цветаеву Мариной,
Почти в опале и почти в чести.
Однако сам стих выводит его на вопросы крови, происхождения, межнационального противостояния-двуединства.
Ну что теперь поделаешь?.. Судьба…
И время спать, умерить беспокойство,
На несколько часов стереть со лба
Отметину двоякого изгойства.
О двух народах сон, о двух изгоях,
Печатью мессианства в свой черед
Опасно заклеймённые, из коих
Клейма ни тот, ни этот не сотрёт.
Два мессианских народа. Узнаются Достоевский, Леонтьев, Розанов, Солженицын. Всё это ныне жевано-пережевано, а тогда было сказано впервые в русских стихах. Процитированная вещь в первой публикации называлась «Проза в стихах», потом – «Бормотуха».
У Межирова было и другое – короткое – стихотворение «Проза в стихах» и книга, так же поименованная, за которую он получил Госпремию СССР.
Выпал глагол,
И не услышать Исайю.
Как я пришёл
К этому крайнему краю?
Ольга Мильмарк, племянница Межирова:
Одним из любимых поэтов Межирова был Борис Слуцкий. Помню, как на похоронах моего отца в 1986 году, стараясь меня хоть немного отвлечь, Межиров читал мне гениальное стихотворение Слуцкого «Старухи без стариков». В черные дни перед антипастернаковским собранием Межиров срочно улетел в Тбилиси и умолял Слуцкого лететь вместе с ним. Слуцкий не согласился…
Между прочим, она вспоминает о том, что зловещая Розалия Землячка, красная карательница белого Крыма, приходится им родственницей.
Станислав Куняев живописует картину рокового разговора с Межировым на предмет русско-еврейского вопроса:
Вечерело… Тонкая полоса кровавого заката загоралась над Москвой-рекой, над бассейном, пар от которого подымался, словно образуя колышущиеся призрачные очертания храма Христа Спасителя… Мы с Межировым знали, что недавно в бассейне было обнаружено тело поэта Владимира Львова, чьи строки: «Мои друзья расстреляны, мертвы и непокорны, и серыми шинелями затоплены платформы» – в те годы были широко известны в узких кругах. Скорее всего, что ему стало плохо во время плавания, а незаметно утонуть в адском облаке густого пара, смешанного со слепящим светом прожекторов, было легче лёгкого. Но злые языки распространяли по Москве слухи о том, что это возмездие иудею, чьи соплеменники разрушили храм Христа Спасителя и специально, чтобы надругаться над православными, построили на святом месте гигантскую купель для кощунственного плотского омовения.
У Слуцкого 50-х написалась такая строка: «Я перед всеми прав, не виноват…» – он говорит о невиновности в возвращении с войны «целым и живым». Но именно этим стихотворением – «Однофамилец»1 – Слуцкий впервые обнаружил это непростое, трудновыразимое чувство вины перед павшими. Как потом скажет Твардовский: «Но всё же, всё же, все жё…»
Слуцкий знал вину и сказал о ней – в связи со Сталиным:
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была –
Вину и на себя я принимаю.
(«Всем лозунгам я верил до конца…»)
Но всё-таки это вина, списанная на время. На веру. На коллективное заблуждение.
Более персонален он в следующем признании, весьма далеком от его парадных деклараций:
Но верен я строительной программе…
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.
Отточие, венчающее верность строительной программе, очень красноречиво. Оно и есть тот песок неопределённости, плывущий под ногами. Слуцкий строит то, чего уже нет, и сам это знает.
Слуцкий часто читал наизусть самому себе и своим ученикам эти межировские стихи:
Одиночество гонит меня
От порога к порогу –
В сумрак ночи и в сумерки дня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
Одиночество гонит меня
На вокзалы, пропахшие воблой,
Улыбнется буфетчицей доброй,
Засмеется, разбитым стаканом звеня.
Одиночество гонит меня
В комбинированные вагоны,
Разговор затевает
Бессонный,
С головой накрывает,
Как заспанная простыня.
Одиночество гонит меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радует радость чужая
Одинокую душу мою.
Я пою.
Одиночество гонит меня
В путь-дорогу,
В сумрак ночи и в сумерки дня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
(«Одиночество гонит меня…»)
Это не означает безоблачных отношений между поэтами. Межиров написал во вступлении к своему томику в серии «Библиотека советской поэзии» (неофициально – Малая серия Библиотеки поэта), 1969: «Зарифмовывать то, что тебе рассказали, не имеет смысла». Что, «Кёльнская яма» – стихотворение, написанное Слуцким с чужих слов, – отменяется? Правда, это больше похоже на полемику с Евтушенко, но и Слуцкому перепало. Всё относительно, нет числа причинам стиха.
В паре Слуцкий – Самойлов Межиров был третьим, но явно не лишним. На закате дней, находясь в больнице, Слуцкий сказал навестившему его Огневу:
– Если бы я начал сначала, я хотел бы писать, как Самойлов, Межиров.
Недавно в журнале «Знамя» (2018 №3) Олег Чухонцев поместил такие строки:
и, за троицу замолвив,
обозначим первый ряд:
Слуцкий, Межиров, Самойлов –
честный гвардии отряд.

Татьяна Бек знала Слуцкого с детства, лично. На вечере, посвященном 85-летию Слуцкого (18. 05. 2004), она говорила:
Слуцкий присутствовал в нашем доме, в доме моего детства, потому что мои родители часто изъяснялись его строчками, как мы говорим строчками из «Горя от ума». «Евреи хлеба не сеют» или «Орденов теперь никто не носит» – это папа говорил, когда его упрекали в том, что у него нет орденов. У Слуцкого «Планки носят только чудаки», а папа говорил «только дураки», иногда даже грубее. Это признак народности его поэзии. Его строчки уже ходили, особенно в литературном народе – «физики и лирики», «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны» и т. д. Слуцкий присутствовал в доме как фольклор высшей пробы.
Когда Слуцкий узнал, что я пишу стихи, первая оценка его была: «В ваши годы я писал хуже». В этом было для меня что-то обнадёживающее.
Он стал моим любимым поэтом.
Но вот что любопытно. Лучшую свою похвалу в стихах Татьяна Бек высказала – Межирову, а не Слуцкому.
Русский пасынок в Нью-Йорке,
В маленьком кафе, где мышь
Смотрит на гостей из норки…
Вот и финишная тишь.
Вот и гордое забвенье
Вдалеке от милых зол,
Где не ботают по фене,
А работают как вол,
Где с лицом небесной лепки,
Спутавшей игру и гнев,
Без замоскворецкой кепки
Он идет, окаменев,
В направлении Бродвея
По 9-й авеню…
И, жалеть его не смея,
В тайный колокол звоню!
…Жребий ловит нас арканом.
И, невозмутимо-сир,
Хмуро дышит океаном
Юности моей кумир.
Она особенно любила эти межировские стихи:
Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком просто?
Все долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И незабываем?
В 1966-м вышел коллективный труд сотрудников Института мировой литературы «Социалистический реализм и художественное развитие человечества», в котором Вадим Кожинов поместил свою работу «Лирика военного поколения». На оттиске издания он поставил дарственную надпись: «Борису Абрамовичу Слуцкому. Сердечно. Вадим. 15.11.66».
К оттиску была приложена записка:
Дорогой Борис Абрамович!
Рад преподнести Вам сей опус – впрочем, страшно исковерканный (он проходил основные инстанции во времена, когда против упоминания о «культе» редактор комично писал: «теперь этого нельзя»).
Очень интересно Ваше мнение. <…>
М.б. выберете время и настроение, позвоните. Лена 2 Вам кланяется и скоро тоже пришлет статью.
Самые добрые пожелания Вам и Татьяне Борисовне. Вадим
Кожинов ушел из той поры путём отказа от поэтов и людей, ему помогавших и бывших его надеждой на будущее русской поэзии. У него, в частности, была превосходная апологетическая статья о Межирове3. Входящий в кожиновский круг Станислав Куняев лично мне, стоя на великоокеанском берегу, сказал в 1966-м году: Пастернак – мост между Блоком и Межировым. То есть середина шестидесятых еще не окончательно обозначила разлом в русской поэзии (и в русской жизни вообще). Но дело шло к тому.
Были девяностые годы, лихорадка державы, болезнь и стихи Татьяны Глушковой.
Он не для вас, он для Шекспира,
для Пушкина, Карамзина,
былой властитель полумира,
чья сыть, чья мантия – красна…
……………………………………….
И он, пожав земную славу,
один, придя на Страшный Суд,
попросит: « В ад!.. Мою державу
туда стервятники несут…»
(«Генералиссимус», 11 октября 1994)
Про эти стихи я узнал задним числом, они были событием лишь для авторов и читателей газеты «Завтра», теперь мне нечего сказать о них, кроме того, что это похоже на какую-то запоздалую реплику в воображаемом разговоре Глушковой со Слуцким.
Ходили слухи о её заброшенности. В 2001 году я позвонил ей в Татьянин день.
Её не стало в апреле.
Межиров написал:
Таня мной была любима,
Разлюбить её не смог.
А ещё любил Вадима
Воспаленный говорок…
(«Позёмка»)

Дмитрий Сухарев говорит:
Вспомним прославленные метафоры Олеши и Катаева. Совсем другая кухня – игра умища, зырк очей, и цирк, и пиршество речей.
Слуцкий метафору не любил, пользовался этим тропом редко – когда деваться было некуда, когда метафора сама наводилась самосближением слов, как у собратьев по школе: «…и подползают поезда / лизать поэзии мозолистые руки» (Маяковский. – И. Ф.). Метафора для Слуцкого – слишком явный, слишком «поэтичный» прием, что противоречит его поэтике, то есть этике. Его стезя была иная:
Не торопясь вязать за связью связь,
на цыпочки стиха не становясь,
метафоры брезгливо убирая…
Здесь союзником Слуцкого и Сухарева оказывается – Межиров (Такая мода. Литературная газета. 1985. №39):
К метафоре относился я всегда с маниакальной подозрительностью, зная о том, что на вершинах поэзии метафор почти нет, что метафоры слишком часто уводит от слова к представлению, мерцают неверным светом, влекут к прозе, тогда как поэзия – установление вековой молчаливой работы духа и разума.
Сказано замысловато, и согласиться трудно. Поскольку даже простейшее «снег идёт» – метафора. Больше этот подход к поэтической речи вызван противоположным взглядом на стих и стихотворство: «Метафора – мотор формы» (А. Вознесенский). Да и борясь с метафорой, Межиров сам говорит на её грани: метафоры «мерцают неверным светом». Нелогично и у проповедника «прозы в стихах» звучит: «влекут к прозе»…

Илья Эренбург не был всесилен, как это кому-то казалось. Лев Озеров рассказывает в воспоминаниях:
Был такой эпизод. В прессе появились разносные статьи о Цветаевой. Особенно неистовствовал И. Рябов в «Правде».
Дело в том, что Эренбург готовил книгу Цветаевой и написал к ней предисловие. Он поспешил напечатать его задолго до выхода книги. Статьи в прессе были направлены на то, чтобы сорвать выход книги. И выход книги был сорван. Эренбург вызвал Слуцкого, Межирова, меня и просил нас, каждого в отдельности, заступиться, не за него – за Цветаеву. Каждый из нас должен был связаться с кем-либо из тогдашних корифеев и убедить его написать хотя бы небольшую статью в защиту Цветаевой.
Меня просили связаться с Твардовским. Вскоре я был у Александра Трифоновича.
– А что я могу сделать? Ты думаешь, что я могу повлиять на ход событий? Время своё дело сделает. Без прессы, без шума имя будет восстановлено. Наберись терпенья.
Так никто и не откликнулся. Но время своё дело сделало…
В дневнике Озерова за 1957 год этот эпизод описан подробней:
26 февраля. <…>
Вечером Борис Слуцкий вызвал меня к И. Г. Эренбургу. Там был ещё Межиров. Речь шла о пасквиле, который написал в «Крокодиле» Рябов. Затронута Марина Цветаева. Тон статьи заушательский.
Две фразы резкого ответа подписали В. Иванов, И. Сельвинский, С. Щипачёв, В. Луговской, И. Эренбург, П. Антокольский. Нужна была подпись Л. Леонова. Поехали к нему с Межировым. Он в Чехословакии. Поехали к Твардовскому. Вышел сонный, пригласил в кабинет. Рассказываю.
– Это телеграмма с борта ледокола. Нужно дать спокойный развернутый ответ. Надо иметь в виду не Рябова, а читателя. А что он знает о Цветаевой? Ведь Рябов задел не только Цветаеву, но под Смертяшкиными он имел в виду в «Литературной Москве» и Фадеева, и Щиглова, и Ив. Катаева…
Не подписал. Просит развернуть.
Поехали к Эренбургу.
– Ну, как – со щитом или на щите?
Решили всё же оставить две фразы. Позвонили Светлову. Пьяный голос в трубку хрюкнул:
– Надо посильней. Матом!..
Межиров в машине:
– Чёрт возьми, невозможно работать в искусстве.
___________________________
1 Ср.: «В 1949 году в Москве был арестован, а спустя год расстрелян руководитель подпольной марксистской (считай: троцкистской) организации студент – Борис Слуцкий. 1929 года рождения. Сын погибшего фронтовика». (Петр Горелик, Никита Елисеев. По теченью и против теченья…)
2 Елена Владимировна Ермилова – литературовед, дочь В. В. Ермилова, гонителя Маяковского; жена В. Кожинова.
3 Вадим Кожинов. Всего опасней – полузнанья. Московский комсомолец. 1966. 15 июня №138.